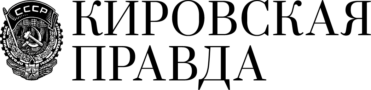Во второе моё пришествие в «Кировскую правду» меня взяли в секретариат. Тогда под началом Бориса Александровича Поперёкова было нас четверо: мастер макета, исполнявший свою работу виртуозно и филигранно, цветными карандашами, Анатолий Филиппович Козьминых, который был просто влюблён в свое дело, Лёва Шаров и я. Мы с Лёвой, по правде сказать, относились к макетированию не столь влюблённо, скрупулёзно и ревностно, как Анатолий Филиппович. Лёва увлекался театром и искусством и писал рецензии, а я начал работать над новой повестью и, пожалуй, больше думал о героях книги, чем о «домиках» и «квадратиках» в макете.
А ещё был дежурный секретарь Владимир Васильевич Вшивцев, большой эрудит, с почти феноменальной памятью. На работе он появлялся часа в четыре дня с охапкой толстых журналов. Всю эту уйму периодики он успевал «заглотить» за утро и прежде всего отправлялся в библиотеку за новой охапкой. К этому времени появлялись рабочие полосы, и Владимир Васильевич, сведя на один экземпляр замечания дежурного, главного редактора, отделов, изысканно ворковал по телефону корректорам:
– Извольте запятушечку похерить. И, конечно, надо в конце заголовка воскликнуть. Пожалуйста, воскликните!
Впрочем, я отвлёкся. Хочу вернуться в те утренние часы 1962 года, когда мы, замы ответственного секретаря, пыхтели над макетами. В конце концов забирались в полный умственный тупик, не в силах заменить вялый заголовок на зазвонистый и призывный, каких требовала тогдашняя жизнь.
Как ангел-спаситель, которого каждый из нас тайно ждал, появлялся зам. редактора Овидий Михайлович Любовиков. Сухощавый, стройный, он молча пожимал нам руки, просматривал макеты и как-то обыденно, между прочим, вдруг выдавал серию таких сильных заголовков, что полоса начинала искриться и сверкать.
Мастер во всём
Овидий Михайлович был мастер экспромта, и поэтому заголовки у него получались броскими и яркими. Этот свой дар он походя рассыпал в посвящениях на своих книгах и в тех четверостишиях, которые адресовал удивившим его местам и людям. К примеру, стеклодувам в Латвии: «На бокал со знаком качества с восхищением смотрю. Первый раз за «надувательство» я спасибо говорю». Или жителям посёлка Кикнур: «Подойду к окну и крикну, оглушив ночную тишь: я хочу в Париж и Кикнур, в Кикнур больше, чем в Париж». Конечно, такие посвящения вызывали благодарный восторг.
Между прочим, таким же неожиданным своим приходом Овидий Михайлович выручал нашу редакционную команду, когда она резалась в волейбол на физприборовской спортплощадке или на встрече по шахматам. Перевес с появлением Любовикова почти всегда оказывался на нашей стороне. Да и как иначе, ведь Любовиков был перворазрядником по шахматам, а в своё время и по гимнастике.
На редакционных вечерах, когда накал веселья достигал апогея, молодёжь рвалась к микрофону, и Соломон Сахар уступал его нам. Но, чтобы спеть журналистский гимн «От Москвы до Бреста», нужен был ещё Овидий. Без него, фронтовика и журналиста, мы не имели морального права петь эту песню. И вот Овидий с нами, в самом центре жаждущих петь. И мы уже от души баском хрипим, пищим, в общем, исполняем то, что так объединяло нас, журналистов всех поколений.
А в те утренние часы макетирования мы любили, когда передовую статью для будущего номера писал Любовиков. Это означало, что он принесёт её точно в срок, будет она как раз по оставленному для неё размеру, её не надо будет править и перечитывать, потому что он свои материалы и стихи всегда печатал сам, и не было там ни одной лишней или недостающей запятой, формулировки точны, цитаты выверены.
Таким был Овидий Михайлович в деле, на рабочем месте. А рабочих мест у него было не так уж много: зам. редактора газеты «Комсомольское племя», зав. отделом культуры, зам. редактора газеты «Кировская правда», собкор центральной газеты «Комсомольская правда», которая тогда была всеобщей любимицей.
Живой поэт
Когда я впервые увидел Овидия Михайловича, ему было всего 23 года, но и тогда он казался таким недосягаемо умудрённым жизнью человеком и таким большим поэтом, что боязно было подходить.
Я запомнил его по «Литературным четвергам», которые еженедельно проходили в «Кировской правде». На них набиралось так много народу, что нечем было дышать. Мы, восьмиклассники, с восторгом смотрели на живых писателей. Заходил очкастый человек в спортивном пиджаке и как-то бочком, стесняясь задеть людей, протискивался к окну.
– Порфирьев, – шелестел почтительный шёпот.
Появлялся не успевший снять военную форму красивый молодой человек в кителе с орденом Красной Звезды.
– Овидий Любовиков, – толкал меня в бок мой друг Слава Хорошавин.
Мы регулярно читали рассказы Порфирьева, стихи Любовикова, восхищались ими, а однажды увидели Любовикова запросто лежащим среди обычных смертных на песчаной косе у Заречного парка. Потихоньку, как бы ненароком, мы подползли к живому поэту, чтобы посмотреть на него вблизи и, если удастся, почитать свои стихи.
Овидий Михайлович расспросил, кто мы и откуда, даже запомнил имена, но о стихах сказал с кислой улыбкой:
– Если можете не писать, не пишите.
К немногословному, ценящему скупую, точную, как афоризм, строку Овидию Михайловичу тянулась стихотворная молодёжь, хотя он отнюдь не был сторонником мягкого всепрощения по отношению к начинающим поэтам и прозаикам. Его замечания оказывались настолько убедительными, что даже самые самовлюблённые дарования вынуждены были соглашаться с ними.
Есть немало признанных поэтов, которым хочется быть добренькими, мягонькими. Они даже похваляются тем, что ни разу ни одно молодое дарование не «зарезали», то есть не сказали правду. Правда всегда ценилась высоко, потому что сказать её трудно. Для этого надо иметь мужество. А оно нужно, потому что, сказав в глаза правду, ты обрекаешь себя на обиды, косые недовольные взгляды, а иногда и ненависть. Так вот Овидий, как называли мы его между собой, правду сказать не боялся. Он понимал, что ложь и лесть вовлекут начинающего стихотворца в самообман. Он будет думать о том, что талантлив и хорош, и не станет работать над стихами и потом заполоводит газеты своими водянистыми творениями. Овидий Михайлович очень переживал из-за того, что дурновкусие в последнее, перестроечное, время захлестнуло нашу прессу. Почувствовав призрачную свободу, устремились графоманы в типографии, пекут свои сырые, недосоленные, недозрелые «блины», и спасу от них никакого нет. В результате, что прекрасно понимал Овидий Михайлович, страдает читатель, страдает святая святых – литература, которая была властительницей душ, но никогда не была праздным делом для удовлетворения собственного тщеславия.
Во многом благодаря Овидию Михайловичу строгое отношение к творениям было и у отдела культуры «Кировской правды» того времени, когда он работал там, и в клубе «Молодость», где взыскательность в оценках творчества никогда не опускалась до низкой планки.
22 года Овидий Михайлович возглавлял областную писательскую организацию. И в это время он был постоянным другом «Кировской правды». Свои стихи и статьи он публиковал только здесь. И во время секретарства различные литературные акции: конкурсы на лучшее произведение, воспоминания о войне – проводил совместно с «Кировской правдой». Ну и, конечно, всероссийские и всесоюзные Дни литературы, которые многократно проходили в нашей области благодаря стараниям Овидия Михайловича, в газете всегда освещались широко и полнокровно.
Освободившись от секретарства в писательской организации, Овидий Михайлович постоянно жил её интересами и нуждами. Почти каждый день в послеобеденное время он приходил в Дом Витберга, деньги на ремонт которого в Союзе писателей России у Сергея Михалкова выколачивал тоже он. Ещё не остывший от стихов, над которыми работал, рассказывал Овидий Михайлович о том, что ему пока никак не даётся выразить. Он вспоминал о фронтовых друзьях из лыжного батальона, из артиллерийской бригады, в которой заканчивал войну, о трагических эпизодах, и мы понимали, что Овидий Михайлович, несмотря на то, что издал 17 книжек стихов, ещё о многом не успел сказать. Помышлял он обратиться к прозе, чтобы поведать о своём поколении, ушедшем на войну семнадцатилетними. Очень волновало его то, что один за другим уходят из жизни поэты фронтового поколения. Вот и у нас остался по сути он один. Он сам написал об этом так: «…Потрясённый неправедной драмой – безнадёжно и звать, и будить, как нечаянно выживший мамонт, в одиночку пытаюсь трубить».
И всё же Вятка!
И в «Кировской правде», и в «Комсомольском племени» считался Овидий Михайлович одним из первых перьев, хоть и писал нечасто. Его журналистский дар заметили в «Комсомолке», взяли к себе собкором сначала по Кировской, потом по Новосибирской и Томской областям. Сибирь привлекала и романтикой, и возможностью реализовать свой творческий потенциал. Однако Овидий Михайлович был однолюб. И этой единственной любовью прежде всего была родная вятская сторона. Он мог достичь высокого воинского звания. Его посылали после окончания войны, которую он прошёл «от звонка до звонка», в академию, но он попросился домой. И Сибирь тоже не удержала его. Разве есть земля милее Вятки? И он опять появился в «Кировской правде».
Помню, мы ездили с Овидием Михайловичем, Борисом Александровичем Порфирьевым и Павлом Маракулиным на Дон. В Ростове, Шахтах, Таганроге, Черкасске нас принимали на ура и угощали обильно. Гости да радуйся. Но как-то вечером, когда сошлись мы в гостинице, Овидий Михайлович вдруг сказал:
– Давайте споём.
Песни он любил самозабвенно и знал их прекрасно. Мы, как умели, затянули что-то. Овидий Михайлович поднялся с кровати и решительно сказал:
– Всё! Надо домой. Надоело. В гостях хорошо, а дома лучше.
Дом, родина для него были превыше всего. Только на своей вятской земле чувствовал он себя спокойно и уверенно. Тут и стихи рождались, и пелось вольнее.