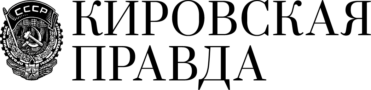Единственная кукла детства
– Нас, детей, в семье было четверо: три старших брата, а я самая маленькая – с октября 1931-го. Отец работал машинистом на поезде. А мама… Мама у меня была дворянкой. Вышла замуж не за того человека, кого ей сватали. Вышла наперекор, по любви. И её сразу от семьи отстранили. Отодвинули. Всё, нет её для прежней семьи… Её родные сёстры, мои тётки, они и меня не признавали.
Жили мы в Ленинграде, в Кировском районе, недалеко от Нарвских ворот. Жили бедно, в одной комнате. Как уж там все размещались – ума не приложу. Впрочем, больше во дворе бегали – я всё с парнями была, братья всегда меня с собой таскали. Однажды ребята притащили мне тряпичную куклу. Кукла – как цыганка, но с косичками. А раньше на лошадях возили трикотажные отходы в больших тюках. Вторсырьё.
Мальчишки заметят такую подводу, вооружатся железными крюками и начинают дергать из поклажи разного цвета лоскутки и обрезки. Потом мне несут. Вот в эти красивые тряпочки я куклу и наряжала. Единственную свою куклу в детстве…
Из школьной поры запомнилось, как на своей сумке из мешковины, в которой на уроки книжки носила, съезжала с весёлым шумом и криком по широким поручням лестницы. Ох, здорово! А вот, как училась в Ленинграде, память почему-то не сохранила…
Мы жили в Сергиевском переулке. А на улице Шкапина был магазин с керосином. И я брала специальную фляжку и шагала за этим пахучим керосином. Такая у меня была домашняя нагрузка. Однажды возвращаюсь из магазина и вижу: около столба, на котором повешен большой квадратный рупор, собирается народ. Многие плачут. Остановилась в любопытстве: что такое? Оказалось, война началась без предупреждения. Домой прихожу, а дома все всё уже знают.
Отца в первый же день забрали в армию. У меня даже фотокарточки его не осталось.
Коля. Потом Павлик. Потом мама…
– В школу мы уже не ходили, какая школа… Теперь за водой надо было ходить. Саночки мне мать где-то раздобыла, флягу небольшую. И я ездила за водой на Неву. Далеко.
Когда началось подступление немцев к Ленинграду, маму каждый день посылали на окопы. В район Кировского завода, чтобы танки не проходили через ров. А мы с братьями дома командовали. И моя задача – занимать ночью очередь за хлебом. Почему ночью? Потому что надо было отыскать булочную, где карточки вперёд отоварят. Ну и что эти 125 грамм? Представляете, такой сырой кусочек. Но мы и этому были рады. Больше же ничего не было – за сутки вот только этот хлебный кусок.
– А не боялись, что вырвут, отнимут?
– Нет, не боялась – кому я нужна. Но карточки прятала далеко. Знала: украдут карточки – это всё, верная смерть. Но хлеб всё же один раз парень у меня отобрал. Я уже обратно шла, когда он налетел. Но не бил – выхватил… Пришла домой, реву вовсю, братьям о случившемся рассказываю. А они этого парня, оказывается, знали. И как с ним потом разбирались – не помню. Но хлеб-то всё равно не вернёшь.
Когда брат Коля устроился на завод – приносил дуранду. Это такие плитки, спрессованные из отходов семечек. Мы и им были рады. Впрочем, короткой радость была… Мы на кухне уже спали, чтобы теплее было, а Коля в комнате. И как-то мама мне говорит: «Иди, разбуди брата. На работу ему пора. Пусть встает…» Я пошла – а он уже холодный. Во сне умер. От голода…
Это была первая смерть в нашей семье. Потом Павлик умер. Потом мама. Это уже в 1942-м. Мамы не стало весной, и я осталась одна… Не было уже ни страха, ничего. Механически как-то жили… А потом кто-то меня отвёл в детский дом.
Не голодный. Но кушать хочется…
В детском доме в Ленинграде десятилетняя Надя пробыла, впрочем, недолго.
– Помню, привели меня в здание моей бывшей школы и сразу вымыли. И там все чистенько, беленько. Потом завели в столовую, дали манной каши две ложки. Много сразу нельзя. Но с настоящим маслом… На другой день дали какао и кусочек хлеба. Вот этот запах какао я до сих пор помню, – на глазах Надежды Михайловны выступили слезы, она надолго замолчала. Потом, преодолев волнение, продолжила рассказ:
– Набрали нас какое-то количество, человек двадцать, наверное, прислали тётеньку из роно Веру Ивановну, которая и сопровождала нас в эвакуацию. Ехали в телячьих вагонах, на соломе. Очень страшно было на Ладоге. Весна, лед уже рыхлый, подтаивает. Перед нами машина с ребятишками утонула. Нас специально чем-то прикрыли, чтобы мы ничего не видели… Ну а наш шофёр как-то вывернулся, миновал благополучно все проталины.
Приехали в Краснодарский край, станица Родниковская.
Как там встречали – никогда не забыть. Даже воды не давали – только парное молоко. И всё с уговором: «Пейте, детки! Пейте, поправляйтесь!..» И одно несут поесть, и другое. Рядом сад фруктовый – нам разрешили свободный вход… И одели в платьица такие красивенькие…
Но потом немцы к станице подошли, и сказка кончилась. Вера Ивановна спешно побросала ленинградскую малышню в машину, на железнодорожной станции перетаскали их на платформу с углём – больше мест не было. И только отъехали, как все станционные постройки были взорваны.
На этот раз путь лежал ещё дальше на юг – в Киргизию. Там и прожили всё страшное военное лихолетье – 1942, 1943 и 1944 годы.
Детдом здесь был большой, смешанный, мальчиков и девочек общим числом человек сто с лишним. Поэтому помещений не хватало, на кровати по двое спали.
– В Киргизии поля большие. Там мак и пшеница – зёрнышки прямо светятся. Так мы что делали, чтобы ещё покушать. Берём наволочку и потихоньку туда. Ползком – нас и не видно. Нашелушим уголок и на всяких веточках эту пшеницу жарим. Очень сытно. И травы много ели. Вернее, веточки молодые – они очень мягкие и очень сочные. Лопухи ели.
Порой отрывали от простыни тряпочку и сшивали куклу. Набьём её чем-нибудь при этом – той же соломкой. И меняли на фрукты: на абрикосы, на урюк. На яблоки. Кто чего даст. И местные довольны игрушечной куклой, и мы в выигрыше…
В детдоме нас научили порядку. До самой старости я дожила и как бы ни была больна, но дома у меня всегда должен быть порядок. Это закон. Научили прясть. Дали для начала шерсть – вот её растребушите. Спрядите.
А как прясть-то? Дали палочки кругленькие. Картошенку. Туда гвоздик воткнули. И мы начали учиться прясть. Научились… Потом стали учить вязать. Рукавицы, носки. И вдруг у нас шерсти не хватило. А в Киргизии, как известно, много баранов. Мы и поймали такого барана, мальчишек попросили, они нам его и остригли. Шерсть сначала спрятали. Не ровён час, придут искать и найдут – что тогда? Попадёт ведь… Вдруг видим: бегут местные. Ай так-так. Что-то там бормочут. Ругаются. Воспитатели приходят: «Кто сделал? Кто барана обстриг?» – «Не знаем ничего. Не видели…» В общем, не признались. А шерсть потом распределили. И все довязали. Все, что надо было…
Домой. В Ленинград…
– В Ленинград очень хотелось. Даже разговора никогда не было, чтобы кто-то не хотел в Ленинград.
В 1945-м, когда война кончилась, нас быстро привезли обратно в родной город. И сразу в санобработку. Намыли, начистили. Пока мылись, и юбочку, и свитерочек беленький трикотажный – всю мою одежду обжигали. И никуда не пустили, пока санобработку не прошли. Потом на Лиговку – в распределитель.
Нам даже сознательно лишний год прибавили, ведь в 14 лет уже на работу могли брать, в тринадцать ещё нет. Нас, киргизскую группу, брать никто не хотел. Наконец идёт маленькая женщина, подходит к нам и сразу: «Ну что, заморыши? Никто вас не взял?» – «Нет», – отвечаем. – «Тогда пошли со мной».
Я попала на прядильную фабрику, стала прядильщицей.
Работали напряжённо, на три смены. В комнате общежития сорок человек: одни уходят, другие приходят, третьи спят. Все сироты. На три смены работали. Не считались, что нам только 14 лет. Если твоя смена выпала на ночь – иди и работай. Иной раз так охота поспать, что станок выключишь, пока мастера рядом нет, на цементный пол ляжешь, головку положишь на ручки. Уснёшь. Мастер скоро придёт: «Надя, девочка, надо же работать… Пойдём, миленькая, включать станок. Пойдём». И ты бежишь, глаза протираешь…
Девятнадцать лет отработала я на фабрике. И нисколько не жалею…
Фото автора